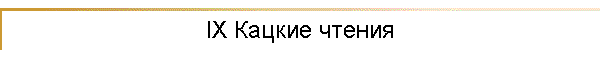Воспоминания о барыне Ниловой
Владимира Александровича Гричухина, Член корреспондента
Петровской Академии Наук
город Мышкин.
Старинное кацкое общество многолико и многогранно. Конечно,
селение основное крестьяне, но в кацких пределах жило множество ремесленников,
предпринимателей, мещан, и даже, я бы сказал, людей «свободных профессий»,
свободных художников. Вот, скажем, в Мышкине, советском, долгое время не было
своего нотариуса, а в Рождествено было два. И дела как то хватало, места
богатые, людные, общество пёстрое, яркое. И попадались всё ещё дворяне. Если
Тютчевы самые Российскознаменитые, то Ниловы им, пожалуй, не уступали. Вот
Татьяна Анатольевна Третьякова, неутомимая в поисках, открывательница всяческих
новостей из жизни Кацкого стана Мышкинского стана да Ярославии всей, когда то
уже рассказывала, что одним из последних владельцем Муранова, был некто, всероссийско известный царский фаворит и скандалист, адмирал, Нилов
Константин Дмитриевич. Он родился в Муранове, крещён был в Кавезине, а его
странная слава, обладателя всех высших орденов России и Азиатских ближних
государств, была действительно, шумной в то время. Да я, собственно, не о нём. Я
о его сестре, Ольге Дмитриевне. Так случилось, что её славный брат, в бурные
революционные годы куда то канул безвестно и исчез навсегда с театра Российской
жизни, а она, несчастная, одинокая, как то замешалась в наших краях и не успела
никуда убраться, ни в какую столицу. Случилось в это время так, что новая власть
сразу отобрала у неё красавицу усадьбу Козлово, потом маленькую красивенькую Малобогородское, усадьбу в Матвейково тоже. И куда же ей попасть то теперь? И
вот она решила, что Мураново так сторонне стоит, и от городов, и от крупных
селений, что вроде бы как туда. Вот здесь то она и оказалась на последнем
островке родовой земли, тут и оказалась старая барыня, Ольга Демитревна.
По одним сведениям, Мураново отобрали именно у неё, а по другим, кстати,
косвенно подтверждающимися, архивными сведениями, толи продала, то ли просто
отдала своему управляющему, понимая, что всё равно отнимут. Очевидно, что ни
какой выгоды она от продажи не поимела, потому что в деньгах и реальной
стоимости вещей, она ни чего не понимала, её то и дело обманывали, бедную. Вот и
последняя усадьба утрачена. Куда же деваться бедной барыне средь взбаламученного
революцией, Кацкого стана? Как же ей жить? И она верно поняла, что не надо в
города, там опасно, но и не надо в малолюдную местность, опасно и там от
разбойника и не хорошего человека. А вот большое село, крупное, людное, с
интеллигенцией, Рождествено, это как раз ей и подойдёт. Она в Рождествене и
стала здешней местной живой достопримечательностью в двадцатые годы двадцатого
века. Её карета, нагруженная последними пожитками, из ворот Муранова выкатилась,
позади остался Муранский еловый парк, пять прудов с каналами, огромные дома…. Простипрощай, родовая усадьба. Барыня промокнула слёзы и уехала.
А в Рождествене кочевала по разным крестьянским домам, квартировала. И уж так
она часто, бедная, кочевала, то от словесных обид несдержанных хозяев, то от
непривычности её странного уклада хозяйкиному укладу, а то от просто страшной
тесноты и трудности крестьянской жизни. И как это происходило. Крестьянки, кто
погрубей кричали ей вслед:
Этой ни где не место!
А крестьянские дети с хохотом катили по Рождествену её белую карету, которую
оставить она ни как не могла. Карета была для неё уже не столько материальной
ценностью, сколь неким ковчегом со славой памяти родовых, каким то
подтверждением её дворянства, её барственности, ещё недавно.
Дважды и подолгу она жила у моих дедушки и бабушки, Александры Ивановны и Ивана
Александровича. Их дом стоял на самом краю села, у реки, против больницы. В
нашей семье долго долго жили воспоминания о чудной старой барыне. У нас к ней
относились в целом не злобно, а с некой мягкой иронией и терпимостью, хотя её
привычки нашему брату мужицкому ну совсем были «не в масть». Рассказы о ней были
многочисленны, в моём детстве, даже некая целая «галактика» воспоминаний. Я
запомнил далеко не всё, по грехам моим, но вот каким выплывает облик барыни из
тех отрывочных моих воспоминаний.
Барыня привезла с собой три сундука разных вещей, в том числе, совсем
бесполезный, кинопроекционный аппарат, абсолютно ни кому не нужный здесь
совершенно. Вещи постепенно исчезали, неумело обмениваемые на грубую
крестьянскую еду. Как либо работать барыня и не пыталась, посвящая всё своё
свободное время чтению многочисленных книг и рассмотрению удивительной новой
жизни, окружающей её. Читала много, не редко вслух и даже дарила некоторые
книжки из своих сундуков Саньке, моей будущей матери, будущей учительнице
советской школы, Александре Ивановне Паркуновой. И часто обращалась к этой
бойкой крестьянской девочка с выдержками из своего бесконечного чтения.
Санечка! Александрина, послушай:
Когда улягусь я на дно могилы
И покорюсь судьбе,
Одну лишь память славного кутилы
Оставлю в мире о себе…
Ах, Санечка, это Апухтин, какой прекрасный был поэт, совершенно одарённый. Я
дарю тебе эту книжку!
Тут вмешивался старший брат Василий, комсомольский активист рождественский:
Ольга Дмитриевна, ведь похоже, Ваш Апухтин всё вопил, да кутил, типичный
контрреволюционный элемент!
Да, юный собеседник, прогуляли Россию!
Так чего же хорошего? Эта негодная книжка по что Сашке нужна?br>
Базель, да то же культура! Да ты не понимаешь…
Барыня Нилова не была ни жадной, ни скупой и делать подарки была склонна.
Однажды она подарила Саньке красивый металлический карандашик, изящный,
позолоченный.
Ой, Ольга Дмитревна, какой дорогой!
Эх, Санечка, юная Александрина, он ещё дороже, он столько знает, сколько
всего понаписал, ах, какие прелестные тайны!
Но о самих тайнах говорить не хотела. А даже когда её Шурка расспрашивала, что
за памятник, например, стоит в парке Муранова? Она красиво отговаривалась:
Живёт легенда в старом парке. О, девочка, там была романтическая история о
роковой любви!
И ни чего не добавляла. А тайны хранить ей было очень даже надо. Не дай бог,
власть бы вспомнила, кто такой её брат, царский фаворит, адмирал Нилов. Друг
царя. И когда речь заходила даже о Косте Нилове, барыня недовольно поджимала
губы и говорила:
А Костя у нас непутёвый, что о нём говорить? Я с ним ни каких отношений не
имела.
Зато охотно и весело с крестьянской молодёжью говорила на любые культурные темы,
стараясь их по возможности просветить, а то и смешила их разными экспромтами
простых и забавных стихов. А рифмовала она легко, и к полному восторгу молодых,
метко, но не обидно, по любой просьбе и на любую тему. Герои её стишков всё
заслушивали про себя, запоминали и записывали.
ВоВот такой эпизод. Парень из Павлова просит что-нибудь сложить про него. И сразу:
На всю округу пал туман,
И дождик сеет тонкий.
Пришёл из Павлова Иван
В колошах и в чухонке.
Везде осенняя вода
И ветер разыгрался
Ивану это не беда,
Он к девушкам собрался.
Он мысль имеет в разуму
О девушках бедовых,
Глядишь, понравится кому
Он, в мокроступах новых!
Барыне было свойственно обращаться стихами к любому действу вокруг неё. И каждое
своё действо обряжать тоже в стихи. А коль часто меняла место жительства, то об
этом, бедная, тоже стихотворствовала. Покидая наш дом, в котором она много
беседовала с моими дядьями будущими, с молодыми парнями, Федей и Васей, она
повторяла:
Парней пока оставим,
Стопы свои направим
За реку, к Филимону,
Там будем проживать,
Стараясь всей душою
О них не вспоминать.
Но объехав множество квартир по селу, она вернулась всё же к нам. Тем была
немало довольна. Эти хозяева оказались всех добродушнее и терпимее к её порядкам
и причудам.
И вновь были забавные стихи. В ту зиму, очень суровую, у наших оказалось чтото
не хорошо с дровами, так, что их надо было добавлять, да хотя бы сырых, что ли.
Да где ж их взять то? И вот барыня с Васей, Базелем, вместе создали такое
произведение:
На дворе январь стоит,
Да беда в окно глядит.
Мало в этом доме дров
А мороз то, будь здоров.
Как тут барыне прожить,
Как Ивану не тужить?
Стали они с хозяином на хитрости пускаться,
Как бы в парк Муранова по дрова пробраться?
Серьёзно просит госпожа:
«Дайте дров мне два кряжа!»
А хозяин с нею в лад:
«Мёрзнет пролетариат!»
Исполком всё разрешил:
«Пусть пилят, что хвати сил».
Так мужик и госпожа
Дров добыли два кряжа.
Старая барыня была большой сластёной. Бедствуя, ни чего не имея, порой без
всякого смысла, из пропитания она мечтала только о сладком.
Иван, а, Иван, нам бы с тобой ни чего не надо, а только бы фунт ландрина!
Ландрин, помните, подушечки дешёвенькие. Уж дальше этих подушечек, мечты старой
барыни, живавшей в Ницце и Париже, теперь не простирались. А продав кое что из
своих вещей, продав в дешёвку и бездарно, она, возвращалась на квартиру и
громогласно объявляла с порога что купила не крупы, не хлеба, а ландрина!
Иван, чай пить будем!
Вот такая, подворянски неискоренимо беззаботная, хлебосольная яркая натура тихо
доживала в Рождествене. Но жизнь то и в стране, и на Кадке была не беззаботная и
не тихая совсем. Об этом были в этом сюжете многочисленные, отнюдь не
безоблачные строчки. Давайте глянем с другой стороны на жизнь одинокой старой
барыни и увидим подругому её в Кацком революционном социуме двадцатых годов.
Внешне барыня была очень колоритна. Вся одежда старая и затасканная, была
господской. Когда то богатое, длинное платье, солох, чепец, либо шляпка, зонтик,
туфли или ботинки на высоченных каблуках. Вот такое видение прошлого и шагало по
улицам Рождествена. Она устала жить в бедноте, утеснении, беспорядке и перестала
следить за собой. Бельё она ни когда не стирала. И когда моя бабушка топила
печку, Барыня властно командовала ей:
Отойти от печи!
Бабушка растерянно сторонилась, а барыня кидала в огонь свёрток своей одежды.
Бабушка всплёскивала руками:
Ой, гаде, Дмитревна, да воно же хорошоя! Ведь его же постирать надо бы!
Барыня отрезала:
Было хорошее, а стирать мне теперь некому!
Перестав за собою следить, она даже не шнуровала бесконечные шнурки своих
высоченных ботинок и ходила, а они за ней таскались по улице. И крестьяне
смеялись в след ей:
Барыня, тебе чай раньше башмаки-то застёгивали.
Она отвечала резко и чётко:
Да, застёгивали, шнуровали, а вам ни застёгивать, ни шнуровать, ни когда
не будет!
Письма она писала, увы, с титулованием всё. И на конверте, который она несла на
почту, красовалось: «СанктПетербург».
Нет такого города, говорили ей.
Всегда был, говорила она, куда же девался?
Ленинград.
Ну, поправьте, поправьте, по-вашему, по-хамски, поправьте.
«Княгине Галициной»
Нет княгинь.
Как это нет? Всегда княгини были и будут! Ударяла по столу Ольга
Дмитриевна.
Но поразительно, что письма доходили и даже приходили ответы.
Крестьянские детки сначала дразнили барыню, бежали за ней, крича:
Эй, барыня, барыня!
Она устало раздраженно отзывалась:
Что вам, мерзавцы?
А ты ведь больше не будешь барыней!
А ты всегда останешься мерзавцем!
И был случай, когда въедливый мужик сказал ей:
Барыня, а вот присудить тебя сейчас к расстрелу, так перед нами бы в своих
слезах бы валялась, прощение вымолить.
И вот, усталая от жизни, сломленная, потерявшаяся старуха, выпрямясь, отрезала:
Победили бы «белые», так ты бы у меня прощения вымаливая, в чужой крови
валялся бы!
Вот это да! А потом она уходила по селу, а сзади зло слышалось:
Старая «контра»! Рваная калоша! Недорезанная буржуйка!
Не просто, не смешно проходили те дни в Рождествено. Но откатывалась в недавнее
прошлое гражданская война, ещё дальше уходила революция. И стали появляться
какие то приметы государственного и общественного порядка, чего то дело стало
получаться, наконец. Хотя много ещё творилось иновременного, Скажем, по
праздникам ещё звонили многозвонные рождественские колокола, в том числе и
большой, треснутый он был, упал во время подъёма. Он с хрипотцой звучал. И
одновременно звучали революционные песни. И барыня, видение прошлого, шагая по
площади, говорила:
Надоело, уж на один бы конец, хоть что то бы одно осталось, хоть какой то
бы, господа, порядок!
А порядок и устанавливался. Навсегда умолкли многозвонные колокола
Рождественской, сброшенные к переплавке, начались классовые репрессии, дворянам
стало жить хуже. Но в это же время новому государству понадобилось много
специалистов. Своих то ещё не наготовили, не наделали. И чудо из чудес! Из
Москвы пришло письмо от отыскавшихся племянниках, которые звали к себе, писали,
что: «Мы работаем в советских учреждениях. А гражданку Нилову непременно надо
послать в столицу, чтоб её взяли на советскую службу, как специалиста по
языкам». О языках была чистая правда. Кроме мёртвой латыни, барыня прекрасно
владела французским, не плохо германским, понимала поитальянски. Вот волей
божьей, спасение от надвинувшейся нищеты, попрошайничества и полного упадка. И
барыня пошла в сельсовет, чтоб получить какуюнибудь справку для
беспрепятственного проезда по железной дороге. Там встали в тупик:
А как же, Ольга Демитревна, Вам определить Ваше социальное положение?
Как! Столбовая дворянка.
С ума Вы сошли, Ольга Дмитриевна! Так это ж до первой станции, до
проверки!
А что там?
Да как с контрреволюционным элементом.
Да что же мне делать, господа, советские работники?
И сердясь на непонятливость барыни, и смеясь с нею вместе, премудрые
рождественские советские работники написали акт на беспрепятственный проезд по
ж.д. до столицы, батрачке Ниловой. С этой могучей бумагой она и пришла в наш
дом. И громогласно с порога заявила:
Иван! Я с тобой поравнялась в правах, я даже лучше тебя!
Как это? Спросил Иван.
Ты крестьянин, значит собственник, а я батрачка, эксплуатируемый элемент,
самый истинный пролетарий!
Читали, смеялись, а через неделю пили прощальный чай с ландрином. Проводили
крестьяне барыню до станции Маслово и на перроне, перед отходом поезда, сердечно
простились и всплакнули. И сколького в тот миг вместилось сразу, ведь на всегда
уезжал последний обломок старой кацкой жизни. Прости прощай. А потом, через
много времени, пришло от неё письмецо о том, что она работает переводчицей в
системе Наркоминдела Министерства иностранных дел. И жизнь, оказывается,
приобретает цивилизованные формы. Вот, казалось бы и всё. Но за нашим гумном, за
домом, сиротливо оставалась на усадьбе ветхая белая карета, в которой играли
крестьянские дети в барыню Нилову, в рождественских крестьян, в жизнь, где
причудливо переплелось новое и старое. Уцелела ли старая барыня в надвигающемся
великом терроре, пропала ли в застенках ВЧКА, ГПУ, или бесчисленных лагерях, бог
весть. Но на родной земле маленьким светлячком всё ещё жива память о ней. И этот
маленький фонарик я принёс и передал вам, кацкие краеведы. Пусть сохранится, а
то ведь в истории так много потёмок, а огоньки ей всётаки нужны.

Реклама :

26 февраля 2004 года, село Рождествено, Мышкинского районаведческие чтения.